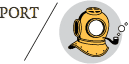Геннадий Шпаликов. Я шагаю по Москве
В Москве повсюду лето, и, опуская все описания этого времени года, я только хочу сказать, что по вечерам и даже иногда днем, особенно в воскресенье, Москва кажется пустой. Принято считать, что в июле все порядочные люди кончают свои дела и сматываются кто куда и лишь бы подальше, чтобы где-то в конце августа приехать в осеннюю Москву очень загорелыми и красивыми с южными фруктами в корзинках. В общем, так оно и есть. Мои знакомые уехали, но не вместе, а по одному, по два, и это произошло незаметно. Я никого не провожал, и никто мне не звонил, чтобы я пришел помахать платочком на платформу Курского или Рижского вокзала или же поехал во Внуково: такие у меня сволочи знакомые. А сижу сейчас в пустой комнате на Арбате, дом 23, квартира 5, а еще вернее – я лежу на диване и читаю Флобера: «Госпожа Бовари», очень скучную, длинную книжку, которую, как мне сказала соседка, я опоздал прочитать, а теперь, конечно, она мне не может доставить того удовольствия. Но книжка, правда, скучная. Если бы у меня было полное собрание сочинений Флобера, как, например, у моей соседки, я бы его сегодня же отнес в букинистический магазин.

-
Правда, сегодня – понедельник, но завтра я бы точно это сделал. А потом, если продолжать эти праздные рассуждения, я бы пошел с приятелями в чешский ресторан в ЦПКиО им. Горького выпить вечером пива, говорят, туда уже завезли черное пражское пиво, а рогульки там всегда свежие, и на них сверху соль. А в конце концов, не продать ли мне что-нибудь из своих книг? Флобера у меня нет, но вот есть прекрасно изданный М. Шолохов в синенькой обложке – всего десять томов, – все бегали, а теперь его сколько угодно, и я даже видел однотомник, выпущенный в Ташкенте. Вот куда он добрался. Итак, что мы имеем: Шолохов, Хемингуэй, можно и Достоевского прихватить, и Пришвина (все говорят, что он – гениальный писатель, но я ничего, кроме длинных описаний лужаек, пней и среднерусских болот, у него не читал). Пришвин у меня в двух томах. Кто подарил – не помню. Но точно знаю, что я его не покупал и не крал. А вот и краденые книжки, если уж мы коснулись этой темы. Хаксли я украл у Киры. Но продавать его не стоит, мне жалко. Когда-то я украл толстого зеленого Эриха Марию Ремарка, но это было сделано ради блага хозяина: нельзя читать такие книжки, принимая все всерьез. Я считаю – это опасно, а этот парень относится к Ремарку с полным доверием и в один прекрасный день стал пить, как эти лихие автолюбители из «Трех товарищей», и бродить в тумане по Фрунзенской набережной с девушкой, которая тоже все приняла, как на самом деле, и теперь ей только не хватало туберкулеза в горном санатории, а ему – спортивной машины, чтобы со страшной скоростью мчаться к ней сквозь ночь по туманному шоссе. Ремарка я тоже продам, если купят.
Я положил все книжки в чемодан и пошел в букинистический на улице Калинина, где у меня была одна знакомая девушка, и я очень надеялся, что она поможет мне все продать. Денег не было совсем, то есть ни копейки, даже газету было не на что купить, а я очень любою читать газеты. Но у нас грамотный и любознательный человек не пропадет: рядом на Суворовском бульваре есть забор, на котором подряд развешены все газеты, вся наша печать. Я остановился у «Правды» и вдруг увидел: «Смерть Хемингуэя». Он чистил ружье, и там оказалась пуля. Я уже не помню, сколько раз в армии меня и других предупреждали проверять оружие перед чисткой, и вы, наверно, тоже помните все эти разговоры о том, что раз в год ружье само стреляет, и еще какие-то поговорки в том же духе. Ружье стреляет раз в год – и прямо в Хемингуэя. Идиотская история. Надо же было так случиться. Какое сегодня число? 2 июля 1961 года. Наверно, это произошло вчера.
Но тут я встретил одного своего знакомого, который с первых же слов заявил, что теперь он осиротел и у него как-то пусто внутри, и не пойти ли по этому случаю выпить за старика, за его память. Он так и сказал: «Пошли выпьем за старика», – и мне вдруг сделалось противно и все пропало, все печали кончились. Я как представлю всех этих подонков со скорбными лицами и как они сейчас идут к «Националю» выпить за старика – кошмар. Помню, как они пили за Олешу, когда он умер, и тоже все было очень скорбно. А ну их всех к чертовой матери. А Хемингуэя я продавать не буду, хотя это тоже литературный поступок: в день смерти Хемингуэя не донести его до букинистического магазина.
-
Всего мне заплатили семь рублей с мелочью: это все-таки много. Кто сдавал книжки и бутылки, понимает, что семь рублей просто не получишь. Семь рублей – это уже состояние. Можно купить себе рубашку, и еще останется рубль; можно поехать на такси до Выставки и съесть в шашлычной шашлык, запивая его при этом болгарским вином из длинной бутылки, а рядом чтоб сидела какая-нибудь красивая девушка и тоже пила, а потом покататься по выставке на парадной коляске или взять лодку, или просто посидеть на траве у пруда; «Петушок или курочка?» – спрашивает девушка, срывая травинку. «Петушок», – отвечаю я, а по воде плавают белые и черные лебеди, и уже закат – идиллия в духе Тургенева. Но вообще все это можно устроить. Мне сейчас все доступно. А почему бы действительно не поехать на выставку? Только вот с кем, я не знаю. А может, в баню пойти? Тоже не с кем.
Я иду по жаре, день еще только начинается, и еще неизвестно, как он кончится и где. Ничего загадочного, конечно, не произойдет, но приятно думать, что ты на пороге каких-то событий и свершений, что ты свободен, молод и даже богат, что ты побрился и на тебе чистая рубашка, и ботинки у тебя блестят, и все отлично.
Но тут вдруг небо потемнело, ударил гром, полил дождь, еще раз ударил гром, и дождь усилился, и вдруг рядом вспыхнула яркая голубоватая молния, и прошла сквозь пять этажей дома напротив, а я стоял в подъезде и ждал, что теперь она стукнет рядом и, может быть, попадет в меня – очень честолюбивое желание. А дождь вдруг полил такой сильный, крупный, большой, что улица от дождя стала белая и вниз по ней потекла вода, а по воде мчались мокрые машины – хорошо бы сейчас проехать по городу под дождем, в такую сильную грозу, когда все бегут по подъездам и к метро, и дождь бьет по стеклам, а тут еще какая-нибудь девочка, застигнутая грозой, вымокшая и прекрасная, попросит подвезти, – пожалуйста, садитесь, отчего бы не подвезти. А дождь льет все сильнее, я уже думал, что он на исходе, что его скоро просто не хватит, а он хлещет и хлещет, раскачивает водосточные трубы и вообще не думает кончаться. А по улице идет босая девочка, туфли в руках. Я у нее спрашиваю: «Теплая вода?» Она говорит, что теплая. Сейчас бы искупаться под дождем – просто отлично было бы. Оказывается, у меня масса желаний, связанных с дождем. А между тем он внезапно кончается. Вдруг его уже нет. Только что был, и уже нет, но сейчас так прекрасно пахнет цветами и листьями, мимо проезжает невозможно зеленая «Волга», и не промок, и все очень хорошо.
В таком благодушном и приветливом состоянии я дошел до Никитского бульвара, поднялся вверх на Пушкинскую площадь (бульвар после дождя благоухал), позвонил Вере и договорился встретиться тотчас и неподалеку: у памятника.
-
У Пушкина лежали мокрые цветы. Пушкин блестел, чисто вымытый дождем, и около него – три киргиза в тюбетейках. Четвертый их снимал на память. Наверно, им бы хотелось сняться всем вместе, вчетвером. «Давайте я вас сниму», – сказал я и снял их всех вместе, и не только на фоне памятника, а еще и с видом на газету «Известия», кинотеатр «Центральный» и улицу Горького в перспективе. Они растрогались и попросили меня сняться с ними на память о Москве. Я с удовольствием снялся, они записали мой адрес, обещая прислать карточку.
Варя что-то опаздывала, а я искал выхода своему прекрасному настроению. Мне хотелось совершать какие-то благородные поступки, переводить старушек чрез улицу, кормить голубей и – какие еще бывают поступки?
Когда пришла Варя, я был занят тем, что переводил одного слепого к магазину «Армения» – это было последнее, что я успел сделать.
Мы поехали на Выставку.
Но идиллии в духе Тургенева не получилось. На выставке мы встретили приятелей Вари, они делали какое-то панно для павильона механизации и получили массу денег. Настроение у них было очень боевое, а еще перед этим около месяца они жили бедно, как поэты, и еще раз повторяю, что настроение у них было очень боевое.
Это были приятные, здоровые ребята, один даже с бородой, и все – в старых штанах, испачканных краской, в простых рубашках с закатанными до локтей рукавами, и пока мы шли к чайхане, они острили, как солдаты, и тоже было хорошо. Я был рад, что мы их встретили. Мы сели на втором этаже чайханы. Оттого, что здесь был ветер, все вдруг стало похоже на верхнюю палубу парохода и на то, что мы куда-то плывем. Куда же нам плыть? Я бы с такими ребятами уплыл куда угодно – на плоту, на лодке, под парусами, и Варю можно было бы с собой взять, хотя – нет, лучше без нее, с ребятами всегда лучше.
Сначала мы выпили водки, закусывая помидорами и огурцами – не салатом, а целыми помидорами и такими же огурцами – и свежим зеленым луком, макая его в соль. Водка была холодная – приятно держать в руках такую холодную бутылку, и мы ее быстро выпили, оставив по рюмке для первого. А на первое нам принесли горячие манты в глубоких тарелках.
***
-
А когда становилось уже совсем невыносимо, ну вот так уж становилось невыносимо, оставалось в запасе одно средство, оставалось пойти в автомат на Киевской и выпить два или три стакана белого крепленого проклятого благословенного общедоступного портвейна № 14 по жетону № 25 и с билетом в кармане сойти на речной трамвай, по сходням, по трапу, под развевающимися флагами, под плеск волн о причал, под выпитый портвейн – сойти и поплыть.
Итак, чайки машут крылами, вода блестит, рябит, впереди у поворота медленно разворачивается баржа – плывем.
О ветер верхней палубы, который проносится между ее крашеных садовых скамеек по закрытым от блаженства глазам пассажиров!
О Парк культуры им. Горького (сначала – о Нескучный сад), который вмещает в себя столько полезного и бесполезного!
О Крымский мост, столь величественно встающий на горизонте!
Будьте прокляты эти дни. Будьте прокляты речные трамваи, я бы взорвал их всех вместе, я знаю, где они стоят по ночам, давайте я их взорву.
Итак, одним отречением на земле стало больше. Здравствуйте, Галилей! Здравствуйте, цари, которые отрекались от престолов!
Этажом выше надо мной по моему потолку ходит человек в три часа ночи. Мне все отлично слышно – каждый его шаг. Что ему надо так рано ходить, чего ему вздумалось? Я лежу в постели, смотрю в потолок, слышу, как он там ходит, а, собственно, почему я смотрю в потолок в три часа ночи, смотрю, как идиот, вместо того, чтобы спать, я, как последний идиот, уставился в потолок, подумаешь, кто-то ходит.
Мы еще придем сюда, поплывем по реке весной или осенью, или осенью пойдем, пока не закрыли заведение, выпьем пива под навесом, посматривая, как дождь льет на открытые желтые столики. Все сидят под навесом, но всегда найдется такой, кто обязательно сядет под дождь есть шпикачки, чтобы дождь лил ему в кружку, но это уже не так важно, пусть льет: к тому времени чешское пиво кончается, а «жигули» не жалко.
***
-
Рассказали страшное, дали точный адрес.
Конечно, никаких тайн сейчас нет. И делать их уже не нужно. Можно всякими способами убедить себя в необходимости тайн, но их нет. Никаких тайн. Все таинственное постепенно исчезает из жизни, но в самой нетаинственности происходящего вдруг возникает тайна. Таинственная суть вещей. Вдруг улица обернется женщиной. Женщина – улицей. В общем, не уличной женщиной, не Мулен-Ружем, не – запятая, читатель, запятая – я не знаю кем. Мулен-Руж – очень красиво. Черные чулки, розовые юбки. Рассказывайте об этом по ночам шоферам такси. Ох, как они это любят! Расскажите им, как вы летали в Нью-Йорк. Расскажите, что способы работы таксиста во Франции сильно отличаются – левостороннее движение – хотя это уже в Англии – можно, кстати, рассказать, что вы Герой Советского Союза, летчик-космонавт, да и мало ли…
Патруль 31 декабря
Новый год, Новый год, мандарины на лотках, снег падает на них.
Новый год скоро.
Вот и елки повезли, понесли на плечах, перевязанные шпагатом, купленные по государственной или спекулятивной цене вблизи дачных платформ и в глухих дворах вместе с белыми, только что обструганными крестами.
Покупайте вечнозеленые (можно мыть губкой), пушистые нейлоновые елки, обрызганные для запаха хвойной жидкостью, вдетые в металлические раздвижные укрепления.
Одна елка на всю жизнь.
И под такими елками, и не под такими стоят все те же краснощекие, ватные, в крупных блестках Деды Морозы с мешками за плечами.
Что-то там, в этих мешках?
А дома уже выдвигают ящики и коробки с прошлогодними, позапрошлогодними и неизвестно какого (может быть, 1899?) года игрушками, а они все равно как новые, каждый год как новые, и чем старее, тем лучше.
-
Подарите мне ту самую рыбу, вырезанную моей младшей сестрой из картона в 1943 году.
А где-то уже волокут по широким парадным лестницам зеленые деревья, срубленные по специальным пропускам для общественных елок, и, чтобы их украсить, нужны почти пожарные лестницы, но такие имеются. Есть и храбрые люди, которые полезут по ним, сжимая в зубах и в одной руке по большому шару: не разбить бы, не хрустнуть тонким стеклом!
Шары, хлопушки, шутихи, бенгальские огни, бенгальские тигры (в каждой шкуре – два артиста).
Прыг-прыг, детки. Шире круг, здравствуй, наш веселый друг; свежая, морозная, елочка, здравствуй!
Повторим, детки, хором.
Во Владивостоке уже гуляют, а на Командорских островах уже гуляют вовсю.
Пять минут, пять минут.
Бой часов раздастся вскоре.
Пять минут, пять минут.
Помиритесь все, кто в ссоре.
Будем всегда благодарны Л.М. Гурченко.
И вскоре после этого все улицы в городе пустые, тихие, снежные или, если нет снега, мокрые; и вдруг становится жалко всех, кто сейчас почему-либо бродит по улицам, и ты думаешь, что хорошо бы сделать всех счастливыми, чтобы никто не болел, не умирал, не тосковал, покинутый, не шатался по улицам, не звонил по разным телефонам, что Ч. Диккенс не такой уж сентиментальный писатель, как это принято считать и в чем совершенно убеждены те, кто его и не раскрывал.
-
Сейчас я вспоминаю все те Новые годы, которые я встречал, из тех, что еще не забылись, потому что большинство из этих ночей не помнишь совсем. Я хочу вспомнить ночь 53-54 года, когда меня и еще двух моих ближайших друзей назначили патрулировать вокруг казарм и на всей территории пехотного училища, включая учебное поле, спортивный городок, засыпанный снегом, а также огромный плац, весь белый и с трех сторон освещенный прожекторами. Наша задача была предельно проста и понятна: если кому вздумается взорвать одну из казарм или поджечь клуб или сделать что-либо похожее с баней, то мы должны были помешать этому, вплоть до применения оружия. Но мне было так противно ходить вооруженным в эту ночь, что я не стал заряжать карабин. Это в карауле проверяют, где у тебя патроны – в кармане или в карабине, а мы тут сами по себе, мы на постах не стоим и знамя не оберегаем. Мы знали, для чего нам ходить всю ночь. Никакого оружия тут не потребуется.
Часов с двух ночи из ближайших к училищу поселков начнут возвращаться курсанты, которым по каким-либо причинам не удалось остаться до утра, но праздник они уже встретили, это им удалось. Я думаю, они будут в лучшем виде, но Новый год есть Новый год, тут уж ничего не поделаешь. Даже самые строгие и суровые командиры разводят руками, потому что сегодня самые строгие и суровые из них тоже будут в лучшем виде. Но курсанты, в отличие от офицеров, бездомны, хотя казарму можно назвать домом, но с большой натяжкой. Во всяком случае, это не тот дом, куда хочется идти, если ты не совсем в порядке, а куда-то нужно идти, чтобы не свалиться в снег и не заснуть, напоминая всей этой ситуацией известную песню про ямщика, который замерзал в глухой степи. Так вот, кончая эти длинные объяснения наших обязанностей, я хочу сказать, что нам было приказано провожать курсантов от забора училища до казармы, потому что через официальные ворота-проходную в таком виде никто не пойдет, а многие направятся к забору, довольно высокому, но с дырками. Те, кто сумеют найти эти спасительные проломы, несомненно, не нуждаются в помощи, и мы заранее благодарны им. А вот тех, кто, обессилев от поисков, свалятся в снег, нам придется спасать, провожая до казармы. Вообще-то говоря, патруль обязан нести или вести под ружьем этих негодяев прямо на гауптвахту, прямо в камеру, этих сукиных сынов, чтобы они дней пять и даже десять чистили снег на всей территории училища или мыли в столовой алюминиевые тарелки после того, как человек пятьсот съедят из них щи с бараниной. Но Новый год есть Новый год, тут уж можно человека простить, понять и даже донести его до постели, накрытой грубым солдатским одеялом с вышитой буквой «Н», что, как известно, означает «ноги».
А Новый год, между тем, приближался. Дым над трубами казарм шел прямо вверх: такая была тихая ночь. Луна сверкала – яркая, елочная, рождественская.
Мы шли втроем по этой прекрасной ночи прямо в училищную столовую, которая, как мы надеялись, была уже пуста. Еще днем мой приятель Саша и я сходили на станцию и там, в палатке, купили еды, бутылку водки и бутылку шампанского, а теперь мы все это выпьем, разольем и выпьем в час назначенный. Когда куранты ударят, курсанты выпьют. Не так ли, Саша? – Так. А как же иначе? – только пошли скорее, а то куранты ударят, а курсанты будут лезть в окно столовой. Нам действительно пришлось лезть в окно: дверь столовой была заперта и даже опечатана.
-
Свет из предосторожности мы не стали зажигать. Я помню эту огромную, пустую столовую, окна в лунном свете, квадратные деревянные столы, блеск клеенок. Говорят, здесь раньше был гимнастический зал. Может, так оно и было. Очень высокие потолки. Трапецию можно вешать.
– Как ты считаешь? – спросил я у Саши насчет трапеции.
– Не вижу смысла. – Он открывал консервы.
– Как бы нас тут не застукали, – сказал Алеша.
– Не застукают. – Саша аккуратно вырезал крышку «кильки пряного посола».
– А застукают: год губы.
– Почему? – не понял я.
– В этом посадят, а выпустят уже в том.
– Могут и в том посадить. – Я посмотрел на часы. – Семь минут осталось.
– Из чего пить будем? – спросил Саша.
– Черт, стакан забыл. – Я тихо выругался.
– В буфете нет стаканов? – спросил Алеша.
– Откуда! – Саша встал и пошел по столовой.Мы ждали.
– Нашел, – сказал Саша, – несите все сюда.
– Сам иди сюда! – сказал Алеша.
– Не могу. Она на цепочке, и замок висит.
– Кто?
– Кружка на цепочке.Мы сидели вокруг бачка с питьевой водой, к которому на довольно длинной цепочке была привязана большая алюминиевая кружка. Вот из нее мы и пили по очереди, когда ударили куранты, неслышные нам, так как радио в столовой не было.
– Жалко, елки у нас нет, – говорил Алеша.
– Сходи в лес, – посоветовал ему Саша. – Елок там хоть завались.
– В лесу родилась елочка, – почему-то сказал я. -
– Давайте еще выпьем. – Саша натянул кружкой цепь.
– Давай.
– Я не знаю, за что, – сказал Алеша. – На дне рождения по второй пьют за родителей, а сейчас за что?
– Давайте просто так выпьем, – сказал я.
– Просто так неинтересно.
– Ну тогда выпьем за командира роты, – предложил Саша.
– За командира роты я пить не стану, – сказал Алеша.
– Тогда за тебя. – Саша выпил и передал Алеше кружку.
– А я за тебя. – Алеша тоже выпил и передал кружку мне. – Хорошо, что нас втроем в патруль назначили.
– Это они неплохо придумали, – сказал Саша.
– И день выбрали хороший, – сказал я.
– 31 декабря, – уточнил Саша.
– Уже первое. – Алеша посмотрел на часы.
– Сейчас какую-нибудь музыку послушать, – сказал Саша.
– Только не классическую. – Алеша помахал рукой.
– На Новый год классическую никогда не передают, – сказал Саша.
– Я бы ее вообще не передавал. – Алеша снова помахал рукой.
– А ее только по радио передают, – сказал Саша, – и то по утрам, когда все спят.
– Но Римский-Корсаков – это все-таки ничего. – Мне вдруг вздумалось заступиться за классическую музыку.
– А что он написал? – спросил Алеша.
– Я точно не помню.
– Вальс-фантазия, это не он написал? – спросил Саша.
– Римский-Корсаков вообще вальсы не писал: только оперы.
– И балеты, – засмеялся Алеша.
– Да, и балеты, – сказал я. – А что тут такого?
– Могучая кучка, – сказал Алеша.
– А что с нами было бы, если бы мы пили из этого бачка? – Саша снова натянул кружкой цепь.
– Да уж ничего хорошего, – сказал Алеша.
– Завтра поедешь в Москву? – спрашивал у меня Саша.
– А что мне там делать?
– Что-нибудь придумаем. Позвоним кому-нибудь. У меня телефон записан.
– И у меня записан. Даже три, – я вспомнил телефоны. – Правильно, три. А толку что?
– Толку никакого, – согласился Саша. -
– Кто с кем Новый год встречает, тот и второго с тем гуляет, – неожиданно в рифму сказал Алеша.
– Ну правильно, – я был целиком на стороне Алеши. – А что им второго расставаться? Какой в этом толк?
– Толку никакого, – согласился Саша.
– А как понять: «Шкурой ревности медведь лежит когтист»? – вдруг спросил Алеша.
– Что это такое? – не понял я.
– Маяковский.
– Что-то я не помню такого.
– Медведь? – спросил Саша. – Это аллегория.
– Какая аллегория?
– Он убил медведя, понятно?
– Какого медведя! – Алеша ничего не понимал.
– Медведь в виде ревности. – Саша был терпелив. – И он его убил, чтобы легче жить.
– И сделал из него шкуру, – я помогал ему, как мог.
– Шкуру ревности, – сказал Саша.
– Лучше бы чучело, – сказал Алеша. – Я видел чучело медведя в Палеонтологическом музее на улице Герцена.
– Я бы не стал убивать медведя, – сказал Саша. – И лося тоже.
– У лося ценятся рога. – Алеша показал свою осведомленность и в этом вопросе.
– Чтобы их на стенку вешать. – Саша был решительно против уничтожения лосей. – В передней, – добавил он, – и на каждый рог – по шляпе.
– Так ты не поедешь в Москву? – спросил у меня Алеша.
– Нет.
– Никогда не женись, – сказал Алеша, глядя прямо на меня. – Зачем, спрашивается?
– Это ты у меня спрашиваешь?
– Это вопрос ко всем. А я лично женюсь в 28 лет.
– Почему именно в 28 лет? – спросил Саша.
– Я не знаю. Мне так советовали.
– Какой-нибудь идиот тебе советовал, – сказал Саша. – Если я кого-нибудь встречу, даже завтра, даже сегодня…
– Сегодня ты никого уже не встретишь, – сказал я.
– Даже сегодня, – повторил Саша. – И если я сам пойму, что она хорошая, умная и вообще не сволочь, я тут же на ней женюсь.
– Курсантам запрещено жениться, – сказал Алеша.
– Разрешат, – твердо сказал Саша.
– А где вы жить будете? В казарме? – Алеша засмеялся. – В каптерке? -
– Это тебя не касается. – Саша говорил почти зло. – А как от жен на фронт уходили? У меня мать с отцом расписались – и он прямо на фронт. Я его в глаза не видел.
– Я тоже сирота, – вызывающе сказал Алеша. – Ну и что?
– Сиротка, – засмеялся я, глядя на его здоровое чистое лицо.
– Слушай, а кто она? – примирительно спросил Алеша.
– Кто? – не понял Саша.
– Я ее знаю?
– Кого?
– А на ком ты собираешься жениться?
– Кто тебе это сказал? – Саша был крайне удивлен.
– Ты сказал. – Алеша был удивлен еще больше.
– Вот идиот, – сказал Саша.
– Это ты идиот: жениться в 19 лет! – Алеша был просто возмущен.Я засмеялся.
– Тебе смешно. – Алеша встал. – Всем вам смешно.
Он бы еще что-нибудь сказал, но произошло то, чего мы боялись и ждали: кто-то постучал в окно столовой. Не сговариваясь, мы легли на пол. Стук повторился. Не очень громкий, но настойчивый.
Нас заметили, и лежать было уже глупо. Саша посмотрел на меня, улыбнулся.– Я сдаюсь. – Он кивнул в сторону окон. – Не стрелять же в него.
– Встретимся на гауптвахте. – Я пожал ему руку.
– Если нас посадят в общую камеру, – сказал Саша.
– Не посадят – будем встречаться на прогулках, – обнадежил Алеша.
– Идет, – сказал Саша и встал.Теперь, нарушая стройность повествования, я хочу сказать, что мне всегда везло с товарищами. Не следует, наверно, удивляться, что среди них не было сволочей или подонков, но приятно все-таки, что из тех, кого я знаю, никто такими не стал. Я бы сейчас с радостью увидел кого-нибудь из тех лет.
-
Любого, даже из другой роты, хотя я знаю, что все ограничится бутылкой водки (спасибо, если одной) и необязательными, в общем, никому не нужными разговорами. Согласен, что по этому поводу нечего особо сожалеть, да и не жалею. Просто хорошо бы увидеться. Говорят, что уже есть междугородный видеотелефон, с помощью которого можно не только услышать, но и увидеть, как по телевизору, того человека, который тебе нужен. Так вот, неплохо бы увидеться, хотя бы путем видеотелефона. Всех, правда, не увидишь. Саша погиб в 56 году в Венгрии. Помните ту осень 56-го?..
А теперь вернемся в столовую 54 года.
Итак, раздался стук в окно, и мы легли на пол в ожидании самого худшего.
Но все получилось, как в нормальной сказке: после полуночи, распахнув окно, к нам из темноты шагнула прелестная незнакомая девушка. Правда, приглядевшись, мы ее узнали.
Обстоятельства, благодаря которым она возникла столь внезапно, были самые прозаические. Она работала официанткой в офицерской столовой, где наши командиры встречали Новый год за большим столом, составленным из десяти или двенадцати обыкновенных квадратных столов, а на том месте, где обычно сидят новобрачные, сидел, как нам сказала эта девушка, «вдовец-генерал», не строго глядя, как веселятся его подчиненные. А к нашей девушке кто-то начал приставать, кто-то из холостых офицеров. Всегда уж так бывает, что кто-то напивается первым. Вот этому человеку мы и обязаны появлением нашей девушки. Никого из нас она не знает: мы были первого года службы и только-только начинали знакомиться с гражданским персоналом в лице официанток столовой, медицинских сестер и дочерей наших офицеров, многие из которых впоследствии стали женами наших товарищей, и, надеюсь, они счастливы.
Где-то я читал или слышал, как некий пассажир, вынужденный из-за непогоды в полном одиночестве встречать Новый год в ресторане аэропорта, искал женщину, чтобы выпить с ней: у него было такое убеждение, что в новогоднюю ночь с тобой обязательно должна сидеть женщина, твоя или не твоя, но нужно, чтобы она была, сидела рядом или через стол, но так, чтобы можно было с ней чокнуться и чтобы не сидеть одному напротив еды и водки. И он такую женщину, кажется, нашел. Далее начинается сюжет из Э.М. Ремарка или из К.М. Симонова: одинокий мужчина, предстоящий ночной полет и немного (страниц 12) сдержанных диалогов.
Э.М. Ремарка мы тогда не читали, К.М. Симонова знали довольно плохо и, конечно, не догадывались, что все, что с нами произошло, уже написано, опубликовано, а может, и снято в кино.
-
– Пить-то больше у нас нечего, – сказал Саша.
– А я не пью, – сказала девушка.
– Можно сбегать на станцию, – предложил Алеша.
– Кинем жребий? – спросил Саша.
– Зачем? Я сбегаю. – Алеша кивнул на меня: – А то вдруг ему достанется.
– К утру прибежит, – сказал Саша.Алеша рассмеялся.
– Может, вы вдвоем сбегаете? – спросил я. – Как братья Знаменские?
– Вы какое вино пьете? – спросил Алеша у девушки, отлично зная, что ничего, кроме водки, он все равно не достанет.
– Я не пью, – сказала девушка.
– Засекайте время. – Алеша уже снимал шинель.
– Час пятнадцать.
– Ни к чему все это, – сказала девушка. Мы даже не знали, как ее зовут.
– Без пятнадцати два буду здесь. – Алеша стоял на подоконнике.
– Пошел! – Саша махнул, как на старте.После ухода Алеши наступила пауза. Мы молча сидели друг против друга. Девушка была без пальто, черную меховую шапочку она держала на коленях. Я совсем забыл, какое у нее было лицо. Тогда ей было лет 17.
– Кто это к вам приставал? – спросил Саша.
– Коля, – сказала девушка.
– Какой Коля?
– Вот дурак. – Девушка думала о своем. – Просто идиот какой-то. А еще старший лейтенант!
– Коля? – переспросил Саша. – Честно говоря, я их по именам никого не знаю.
– А я по фамилиям, – сказала девушка. – Коля. Старший лейтенант. -
– Из какой роты? – зачем-то спросил я.
– Откуда я знаю.Мы молчали.
– Может, ему морду набить? – предложил Саша.
– Что вы! – испугалась девушка.
– Ешьте шпроты, – я подвинул к ней банку.
– Спасибо. – Девушка глазами поискала несуществующую вилку.
– А вы хлебом поддевайте, – сказал Саша. – Вот так, – он показал. – Вот только выпить нечего.
– Сколько минут прошло? – спросил я.
– Двенадцать, – сказал Саша. – Сейчас к Люберцам подбегает.
– Хорошо, что озеро замерзло, а то бы пришлось вокруг.
– Он через озеро бежит? – спросила девушка.
– Так ближе, – объяснил Саша.
– Не провалится, – успокоил Саша.
– Он не из Колиного взвода? – спросила девушка.
– Нет, – сказал Саша. – Нашего взводного зовут Митя. Старший лейтенант Митя.
– Так если ваш приятель провалится, Коле не влетит? – спросила девушка.
– Нет, не влетит, – сказал Саша. – Он что, за вами ухаживает?
– Кто?
– Старший лейтенант, – сказал Саша.
– Что вы, – сказала девушка, – у него невеста в Николаеве.
– Довольно далеко, – сказал Саша. – Географически, конечно. Духовная близость тут ни при чем.
– Что? – не поняла девушка.
– Ничего, я так. – Саша посмотрел на часы.
– Невеста, конечно, не жена, – сказала девушка. – Сегодня ты невеста, а завтра… – Она вздохнула. – Он ничего, только вот пьет.
– Советские офицеры не пьют, – сказал Саша.
– Пьют, – сказала девушка. – А ему нельзя.
– Всем нельзя, – сказал Саша.Я заметил, что после разговоров про то, как Алеша провалится под лед, он стал очень насмешлив.
-
– Пускай здоровые пьют, – говорила девушка. – А он полосу препятствий в офицерском многоборье пробежал и чуть не умер.
– Чуть не умер на боевом посту, – сказал Саша.
– У него невроз, – сказала девушка.
– Пенсия – вот в чем его спасенье, – сказал Саша.
– Он не инвалид, – гордо сказала девушка.
– Сколько времени? – спросил я.
– Если не утонул, минут через семь будет, – сказал Саша.
– Я его боюсь, – говорила девушка.
– Колю? – спросил Саша без всякого интереса.
– С кем, говорит, увижу – убью.
– Из пистолета системы Макарова, – сказал Саша. – Есть такой офицерский пистолет. Не очень хороший, но стреляет.
– Правда? – Девушка испугалась.
– Гоните его к чертовой матери, – сказал Саша.
– Он ничего, только пьет…
– Ну, ладно, – сказал Саша. – Сколько там? – Он посмотрел на часы.Девушка сладко зевнула.
– Нина, – сказал вдруг кто-то крепким командирским голосом. – Нинка!
И сразу стало холодно: в раскрытом настежь окне стоял человек гренадерского роста и сложения. Трудно сказать, какими были гренадеры, но, судя по описаниям, они выглядели точно так. Подобных ему людей я больше не видел нигде: секрет их производства, очевидно, потерян. По званию он был старший лейтенант. Без шинели, во всем парадном. Кортик, кажется, висел. Не помню точно.
– Нинка, – говорил старший лейтенант, стоя на подоконнике и не обращая на нас никакого внимания, – я же тебя везде искал. Даже на каток ходил.
– Зачем на каток? – спросила девушка.
– Там свет горел, – сказал старший лейтенант.Внезапно он заметил, что кроме его девушки в столовой есть мы.
-
– А что вы тут делаете? – спросил он.
– С Новым годом, товарищ старший лейтенант, – сказал Саша.
– А это не имеет никакого значения, – сказал старший лейтенант. – Новый год, старый год: все одно.Он постоял молча в раскрытом окне, а потом, опустив голову, вдруг стал читать стихи. Сбиваясь, без всякого выражения:
Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я не молод, не красив… и т.д.Стихи были длинные. В конце концов девушка расплакалась.
– Коля, – сказала она, – Коленька, – и пошла к окну. – Что же ты без шинели…
Старший лейтенант протянул ей руку, и она шагнула на высокий подоконник. Не попрощавшись, не обращая на нас никакого внимания и не закрыв окна, они уходили. Так как из темного помещения отлично видно все, что происходит на освещенной улице, то мы смогли наблюдать, как они целовались, стоя по колено в снегу; старший лейтенант, будучи значительно выше ростом, за локти приподнял девушку, целуя, легко и долго держал на весу, – и туфелька скользнула в снег.
Если вечером 53 года снег почти не падал, и была та самая звездная «ночь перед Рождеством», то в 2 часа ночи 54 года, когда мы вышли на улицу, он, что называется, валил.
Было тепло и тихо. Мы шли вдвоем под снегом через пустой плац. Я думал о том, что Алеша сейчас пересекает озеро, и о том, что если до утра будет такой снег, то завтра с подъема все училище начнет чистить плац деревянными лопатами, а послезавтра, если опять же снег не перестанет, нас повезут очищать от заносов железнодорожные пути. «С Новым годом», – сказал, проходя мимо, разводящий, за которым следовала смена караула в тулупах, засыпанных снегом. В двенадцать их поставили, в два сменили.
Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске.
Что такое – сквер направо
И налево тоже сквер.Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл.Кто он, я не знаю – кто,
А скорей всего никто,
У подъезда, на скамейке
Человек сидит в пальто.Человек он пожилой,
На Арбате дом жилой, –
В доме летняя еда,
А на улице – среда
Переходит в понедельник
Безо всякого труда.Голова моя пуста,
Как пустынные места,
Я куда-то улетаю
Словно дерево с листа.
Утро
Не верю ни в бога, ни в черта,
Ни в благо, ни в сатану,
А верю я безотчетно
В нелепую эту страну.
Она чем нелепей, тем ближе,
Она – то ли совесть, то ль бред,
Но вижу, я вижу, я вижу
Как будто бы автопортрет.