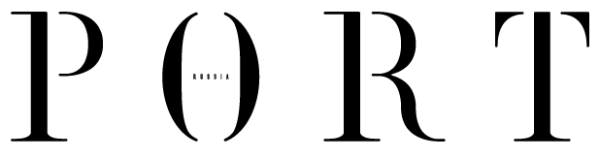Нет, конечно. Скорее, я помню тот момент, когда понял, что при всей моей любви к математике у меня нет тех способностей, которые бы позволили мне сделать математику делом своей жизни. Просто у меня был выдающийся учитель, в самой обычной школе на окраине Москвы. Я постоянно побеждал на олимпиадах, в которых участвовали мои сверстники из математических школ. Позже я поступил в Институт железнодорожного транспорта на отделение прикладной математики. И вот там я обнаружил рядом с собой людей, про которых было понятно, что они математики, а я – нет. Я имею в виду их способ существования в этом мире математических объектов. Когда я увидел, как они доказывают теоремы, решают задачи, ставят проблемы, то понял, что все, что у меня есть, – это любовь к математике, но не больше.
Тогда вы решили перейти в сторону гуманитарных исследований?
Да. Хороший математик – тот, кто решает задачи. Я всегда был склонен к тому, чтобы думать об основаниях математики, ее условиях, статусе ее объектов, чем о конкретных теоремах. То есть я извлекал из математики не ее саму, а ее странность, непохожесть ни на какую другую дисциплину. Я всегда чувствовал в ней невозможное соединение абсолютной строгости и волюнтаризма. Когда я мигрировал в гуманитарную сферу и увлекся кино, музыкой, теорией литературы, философией, я находил в этих дисциплинах некий неявный математический пласт, а в математике, наоборот, гуманитарный. Это я осмыслил уже позже, когда в каком-то смысле вернулся в прошлое и начал читать курсы по математике и современной философии в РГГУ и Высшей школе экономики.
Аронсон: один на один с математикой.
«Когда у тебя идет процесс математического доказательства, это близко тому ощущению, которое возникает, когда ты читаешь сцену безумия князя Мышкина».
А как можно увидеть математику в дисциплинах, которые принято ей противопоставлять?
Математика гораздо ближе к гуманитарным областям, чем то, что мы называем естественно-научной сферой. Там ее обычно используют как инструмент, а в гуманитарных сферах она присутствует как то, что имеет отношение к способам аргументации, доказательства. Математика – это способ убеждения, который скрывает свои основы настолько тщательно, что мы готовы признать это убеждение объективным. Гуманитарная сфера – это тоже способы убеждения, доказательства, выстраивания аргументов, а не только факты и знания. Для меня это достаточно очевидно, но на протяжении многих веков различия между математикой и гуманитарным знанием культивировались, потому сегодня очень трудно усмотреть их общность.
Почему современная философия так часто обращается к математике?
В философии есть постоянное напряжение между трансценденталистской философией, идеалом которой является Платон, и имманентистской философией, которая отрицает трансценденцию и пытается иметь дело с неустойчивостью мира, с его парадоксальностью. В математике тоже есть похожее напряжение. Некоторые математики считают, что математика – часть физики или геометрии, что она на своем языке выражает законы природы, которые изучают эти науки. Но есть и другие, которые верят, что математика имманентна миру мышления, а насколько этот мир коррелирует с окружающей нас природой, вопрос открытый. Так возникает вопрос: математические объекты принадлежат самой природе или это чистые абстракции? Мне близка позиция Альбера Лотмана, участвовавшего во французском Сопротивлении и расстрелянного немцами в возрасте 36 лет. У него была идея, что нет математических объектов, а есть математические структуры.
Математическая структура – это то виртуальное, что мы не воспринимаем чувственно, но что всегда актуализируется, проявляется в мире случайным образом. Нам в этот момент кажется, что произошло открытие в физике или биологии… Но открытие – это и есть проявление новой структуры, которая была до сих пор виртуально действующей. Вот этот виртуально действующий мир еще неопознанных структур и есть сама математика. Это как раз то, о чем я говорю, когда утверждаю, что ощущаю математику в литературе.
Как-то в одном из интервью Грегори Хайтин сказал, что самый близкий к математике для него – Достоевский. Когда у тебя идет процесс математического доказательства, это близко тому ощущению, которое возникает, когда ты читаешь сцену безумия князя Мышкина. Это как раз те структуры, которые не могут быть опознаны как «реальность» или «норма», а потому нам проще говорить об «абстракции» или «безумии», отделяя их тем самым от повседневного опыта существования. Это мир, который эмпиричен, но он постигается не разумом и не чувствами. Это эмпирия безумия разума и безумия чувств. Но она-то и составляет структуру нашей аффективности. Неслучайно среди математиков много людей, которые со стороны могут показаться странными.
Текст: ФУРКАТ ПАЛВАНАДЗЕ